от ГенШи:
если бы существовала только та идеология на которую опирается твой разум сейчас. Но, увы, человеческий гений надыбал и другие возможные контексты для опоры разума и, исходя из них, повидимому, возможен и тот подход который заявлен в Партии сейчас. Другой разговор, что в настоящее время в России (а может и в мире) доминирует «твоя» идеология. Именно поэтому большинство «механических» человеков охотней следует стимулам «долженствования». Именно поэтому, думаю я, «твой» подход к организации Партии (партий) на сегодня наиболее эффективен. Однако я хотел бы уже с самого начала заложить возможность мягкого перехода к более «зрелым» философиям. Приглашаю тебя помыслить вместе со мной в эту сторону.
Философия долженствования.
Назовем так философскую, идеологическую, этическую концепцию, в рамках которой мы жили и мыслили до последнего времени, а многие живут и мыслят сегодня. Марксизм является лишь одним из ответвлений данного миропонимания именно в нем оно нашло наиболее полное воплощение.
Личность рассматривается в данной концепции как совокупность общественных отношений, продукт социального воздействия. Согласно ей, человек не может, не имеет права замыкаться на своих личных интересах и потребностях. Наиболее ценные человеческие качества — гражданственность, чувство долга, ответственность, способность подчинить личные интересы общественным. Смысл жизни человека — в служении Отечеству. Ценность человека измеряется тем, насколько он сумел подчинить себя общественному долгу. Таков идеал Древнего Рима, эпохи классицизма (XVII век), русского общества периода становления и упрочения государственности. Можем ли мы назвать эту идею социально и этически ценной? Казалось бы, да. Но почему ее приверженцы и последователи часто оказывались по разные стороны баррикад? Почему эта идея являлась преобладающей в периоды сильной абсолютистской власти? Как относиться к тому, во что она выродилась в XX веке в условиях тоталитарных режимов: как к ее естественному продолжению и логическому завершению или как к искажению, деформации? Наиболее полные и глубокие ответы на эти вопросы дают в своих работах философы русского зарубежья Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Г. П. Федотов, Н. О. Лосский и другие. С. Л. Франк отмечает, что тенденция к социализации жизни являлась господствующей не только в Советском Союзе, но и в странах Запада в 30-е годы. Эта тенденция связана с утратой интереса к личности, к индивидуальности человека. Технократическое мышление, преобладавшее в обществе, было обращено к коллективным формам жизни как единственно возможным в победе над природой и техническом преобразовании мира. Ведущее настроение этого времени — «вера в абсолютную ценность внешнего социального строительства».
Специфичность проявления данной тенденции в советском обществе С. Л. Франк определяет как «социальный фанатизм». «Социальный фанатизм практически (вопреки своим теоретическим идеям) не отвергает внутренних духовных сил личности; напротив, он хочет их использовать — и прежде всего основную потенцию внутренней жизни личности: веру, мечту, нравственное чувство, энтузиазм, коротко говоря, духовный огонь, которым горит личность. Но он хочет целиком, без остатка вложить эту силу во внешнее делание — в социальное строительство... Вся душа, все сердце человека без остатка мобилизуется и предназначается для утилизации как сила, нужная для общественного строительства».
Итак, философия долженствования снимает вопрос об индивидуальном, самобытном жизненном пути человека. Центральная нравственная категория данной философии — категория «долга», в жертву которому приносятся индивидуальные интересы и потребности человека. Истинным побудителем активности человека считаются внешние воздействия — требования общества, государства. Антигуманный характер данной концепции обнаруживается особенно ярко в условиях тоталитарных государственных систем, политика которых направлена не на благо человека, а на осуществление абстрактной идеи — революционной борьбы за построение справедливого общества (коммунизм) или завоевания мирового господства для своей нации (фашизм).
Философия долженствования лежит в основе тех педагогических воззрений, которые называют «педагогикой формирования».
Государство диктует свой заказ на исполнителя, при этом игнорируются внутренние потребности, самобытность личности. Итогом этого должно быть, чтобы человек вообще перестал себя ощущать личностью, носителем самобытного и самодовлеющего духовного мира и стал без остатка безличным обладателем полезной для общества энергии — энергии, которая должна принадлежать не ему, как его личное достояние, предназначенное для осуществления смысла и цели его собственной жизни, а обществу в его задаче социального строительства. Происходит то, что С. Л. Франк называет «внутренней коллективизацией человеческих душ».
Таким образом, философия долженствования не только игнорирует внутренние духовные силы человека как источник, побудитель его активности, но и снимает ответственность с человека за его деяния, образ жизни.
Возможно, данные выводы покажутся слишком категоричными и вызовут возражения. Мы знаем многих людей, для которых служение общественному долгу — духовная потребность и сознательно реализуемая жизненная цель. Как соотносится философия долженствования с тем, что мы называем альтруизмом? Попробуем разобраться и ответить на этот и другие вопросы сами.
Философия существования (экзистенциализм)
Экзистенциализм — направление современной философии, возникшее в начале века в России (Шестов, Бердяев), позже получившее развитие в Германии (Хайдеггер, Ясперс, Бубер) и во Франции (Сартр, Камю, де Бовуар). Сегодня экзистенциализм объединяет различные философские и психологические концепции, сосредоточившие свое внимание наличности как индивидуальности, на постижении смысла человеческого существования. Отправная точка зрения данной концепции — признание уникальности, индивидуальности, исключительности каждого единичного человеческого бытия, каждой личности.
Человек реализует себя как личность в той степени, в которой он сумеет на протяжении своей жизни сохранить и развить данную ему от природы уникальность. Взрослея, он теряет свою индивидуальность, ориентируясь на других («я как все»). Иногда он сознательно отказывается от собственной индивидуальности, нивелируется — так, ему кажется, легче прожить. Отказ от полноты собственного существования ведет к крушению личности. В утверждении ценности самого человеческого бытия, реальных, переживаемых здесь и теперь моих чувств, мыслей, поступков проявляется гуманистическая сущность данной философской концепции. «Да, человек есть цель в себе. И он является своей единственной целью. Если он и желает быть кем-то, то в этой жизни...»' — утверждает А. Камю.
Центральные понятия философии существования — понятия «свобода», «выбор», «ответственность». Человек есть лишь то, что он сам из себя делает. Он существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Никакие другое факторы — среда, наследственность — не могут служить оправданием его неспособности самоопределяться в жизни, его человеческой несостоятельности. Таким образом, человеку отдается во владение его бытие, и в этом он свободен выбирать свой жизненный путь. Никакая всеобщая мораль не укажет человеку, что надо делать: есть множество ситуаций, где невозможно определить, что нравственно, что безнравственно, что хорошо, что плохо. Человек сам осуществляет свой выбор, принимает решение. «Человек создает себя сам. Он не сотворен изначально, он творит себя, выбирая мораль»2.
' Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. — М., 1990. - С. 184.
2 Сартр Ж. П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. — М., 1990. — С. 339.
Поэтому
решающим свойством человека является его личностная позиция: установки, отношение к миру, людям, самому себе. Все зависит от позиции, а не от характера человека, так как, по мнению экзистенциолистов, характер — это то, что я, как личность, формирую сам. Результатом свободного выбора и основой самоопределения становится принятие решения, поступок. «... Я не только поступаю в соответствии с тем, что я есть, но и становлюсь в соответствии с тем, как я поступаю», — пишет В. Франкл. В свою очередь поступок, решение — исходный толчок к дальнейшему действию, к становлению нравственной позиции, к самоопределению человека. При этом экзистенциальная свобода не является анархией, она сопряжена со второй своей гранью — ответственностью. Свобода выбора человеком своей судьбы означает и то, что человек берет ответственность за свой выбор на себя. «... Экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование. Причем человек несет ответственность за свой выбор, за свой жизненный путь не только перед собой, но и перед другими людьми. Ибо ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех. Он несет ответственность перед всем человечеством, так как тем, как человек себя осуществляет, он создает определенный образ человека вообще, утверждает те или иные ценности, то есть человек выбирает не только свое бытие, но и бытие всего человечества. Таким образом, философия существования несводима к индивидуализму и самодостаточности личности. Человек реализует себя настолько, насколько способен выходить за пределы собственного «я».
Гуманистическая сущность данной философской концепции связана прежде всего с обращением к проблеме смысла жизни. Так, В. Франклом создано специальное философско-психотерапевтическое учение — логотерапия, цель которого — помочь человеку обрести смысл жизни. Стремление к поиску и реализации человеком смысла своей жизни автор логотерапии рассматривает как врожденную высшую потребность человека, являющуюся ведущим двигателем его поведения и развития. Утрата смысла жизни равноценна гибели человека. Экзистенциализм признает уникальность и неповторимость смысла жизни каждого человека, его нельзя дать человеку, он может и должен найти свой смысл сам. Вместе
' Франкл В. В. В поисках смысла. — М., 1990. — С. 114.
2 Сартр Ж. П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. - С. 323.
с тем, стремясь помочь человеку,
В. Франкл находит те пути, посредством которых человек может сделать свою жизнь осмысленной. Это, во-первых, с помощью того, что мы даем жизни (наша творческая самоотдача — ценности созидания), во-вторых, с помощью того, что мы берем от мира (наши положительные эмоции, переживания, чувства — ценности переживания), и, в-третьих, посредством позиции, занимаемой нами по отношению к судьбе, которую мы не в состоянии изменить (принятие своей судьбы, нахождение смысла своего существования в ситуациях, представляющихся безвыходными и бессмысленными, — ценности отношения).
В жизни каждого человека приоритетны те или иные ценности. Чаще всего это ценности созидания или ценности переживания. Однако даже в тяжелейших условиях, кризисных ситуациях человек имеет возможность занять осмысленную позицию по отношению к жизни, сохранить волю к жизни. В. Франкл относит ценности отношения к разряду высших ценностей. «... Человек, сталкиваясь со своей судьбой и вынужденный ее принимать, все же имеет возможность реализовать ценности отношения. То, как он принимает тяготы жизни, как несет свой крест, то мужество, что он проявляет в страдании, достоинство, которое он выказывает... — все это является мерой того, насколько он состоялся как человек»'. В. Франкл делает вывод о том, что жизнь человека не может быть бессмысленной. Найти смысл — задача человека. Он постоянно несет ответственность за свой жизненный путь и реализацию своего жизненного смысла.
Философия существования является основой гуманистических педагогических воззрений, рассматривающих воспитание как создание условий для саморазвития и самореализации личности, как помощь ей в самоопределении, в выборе своего жизненного пути, осознанном принятии решений.
Концепция этической духовности
Одно из наиболее целостных и гармоничных гуманистических воззрений на цель и смысл человеческого существования содержится в русской философской мысли конца XIX — начала XX века. В основе этого воззрения лежит идея развития духовности как душевности.
, Человек есть существо, в котором соединяются начала духовное, душевное и телесное. Западная цивилизация направлена прежде всего на развитие телесного начала в человеке, а также на развитие воли, которая, по мнению Г. Федотова, менее всего выражает душевность2.
' Франкл В. В поисках смысла. — М., 1990. — С. 174.
2 См.: Федотов Г. Ессе homo // Человек. - 1991. — № 1. - С. 46.
Смысл жизни представляется «современным атлетам» как реализация своих физических и интеллектуальных сил в целенаправленной и целеустремленной деятельности по преобразованию окружающего мира. Именно таков идеал века покорения природы и технического прогресса. Сила и энергия такого человека приобретает стихийный, разрушительный характер. Религиозные западная и восточная традиции высшим свойством человека считают его бессмертный дух, рассматривая его как ту субстанцию, которая может существовать и развиваться вне телесной оболочки человека и является выражением его божественной сущности, тем, что связывает его с миром Бесконечного, Вселенной, Космосом. Развитие в себе этого духовного начала, то есть выход за пределы собственного физического «я» и подготовка к иной, высшей цели своего бытия, лежащей вне реального сегодняшнего существования, — смысл жизни человека. Согласно теософским концепциям, душевность есть нечто низшее по сравнению с духом, то, что связывает дух с телом (чувства, эмоции, переживания).
Русские философы отвергают такое понимание духовности человека. Высшая духовность, по их мнению, невозможна без душевности — эмоциональной чуткости, отзывчивости, способности к эмоциональному отклику: жалости, состраданию, любви к ближнему. С точки зрения В. С. Соловьева, духовность — это стыд, милосердие, благоговение перед добром.
Анализируя различные философские подходы к определению сущности человека, Г. Федотов пишет: «Сам человек становится предметом отрицания, унижения, подавления в передовых явлениях современной культуры. Он подавляется во имя мира идеального (кантианство) и мира социального (марксизм, фашизм), ради духа и ради материи, во имя Бога и во имя зверя. Свободно и окружено почетом тело, освобождается, хотя и в очень ограниченной степени, и дух; гибнет только душа. Но это «только»! Телесный человек живет звериной жизнью, духовный — ангельской. Лишь душевный остается человеком... Духовность, оторванная от разума и чувства, бессильна найти критерий святости: смотря на многих современных «духоносцев», трудно решить, от Бога они или от дьявола? Внеэтическая духовность и есть самая страшная форма демонизма»'.
Федотов f. Ecce homo //Человек.— 1991.—№ 1.—С.46.
Как современно это звучит! Только разумность, слитая с сердечностью, при преобладании сердечности, может лежать в основе духовности. Вспомним слова Ф. Достоевского: «Космическая гармония неприемлема, если она игнорирует индивидуальную судьбу. Все счастье мира не стоит слезинки ребенка».
Человек реализует себя как личность, лишь развивая в себе душевную духовность: способность к состраданию и сопереживанию, чуткость и отзывчивость, совестливость, готовность прийти на помощь другому человеку, ответственность за все, что совершается вокруг него. Духовному человеку не свойственно всякое исключительное отстаивание своей личности, своей односторонней личной правды. Идея соборности сознания лежит в основе понимания сути развития и прогресса русского общества: переустройство жизни не путем борьбы, революции, а через взаимное дополнение духовных личностей, нравственное единение всех людей (Л. Толстой, Н. Грот'). Именно в духовно-нравственном совершенствовании себя и человеческих отношений видят смысл и назначение человеческой жизни русские философы.
На этих гуманных идеях взращена педагогическая мысль, у истоков которой стояли Л. Толстой, В. Розанов и другие. Образование, по мнению В. Розанова, призвано прежде всего изменять душу человека, утончать ее требования, возвышать ее стремления, делать ее более отзывчивой и чуткой2. Воспитание должно быть направлено на духовное развитие человека, который был бы сосредоточен не на себе, а на других, человека совестливого, открытого и верного, умеющего соотносить свои интересы с интересами других людей. В конечном итоге социальное назначение школы — это создание общности людей, ориентированных на духовные ценности, сознательно устремленных на их утверждение.
Философия космизма
Вопросы смысла жизни и места человека во Вселенной являются основополагающими в научно-философском направлении, получившем обобщенное название философии космизма. Истоки его уходят в глубь веков. Ощущение глубинной причастности сознания космическому бытию, мысль
' См.: Человек. - 1991. — № 1. — С. 115, 134.
2 Розанов В. Сумерки просвещения. — М., 1991. — С. 59.
о человеке как микрокосме проходят через мировую культуру как восточную, так и западную.
Согласно восточным учениям, все явления в мире (в том числе человек) имеют двойную природу: внешнюю и внутреннюю, видимую и невидимую, духовную и материальную. Преодоление противоречия между ними и выступает движущей силой эволюции.
Запад больше направлен на познание и преобразование внешнего мира, видимого, материального. Восток же тысячелетиями накапливал сокровища духа. Мир внешний — это мир иллюзий, майя, он преходящ. Вечен только дух, через погружение в мир внутренний, через совершенствование «внутреннего человека» возможно достижение состояния чистого сознания и слияние с Высшим Разумом.
Нельзя сказать, какое из этих мироощущений предпочтительней. В них отражены два плана развития человечества. Но знаменательно, что именно в России космическая тема человека на рубеже XIX — XX веков оформляется в научное направление. В его ряду стоят такие философы и ученые, как Н. Ф. Федоров, Н. А. Умов, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, А. К. Манеев, В. Н. Муравьев, Н. К. Рерих и другие.
Принципиально новым качеством миропонимания философов-космистов, его определяющей чертой выступает идея активной эволюции, которой обосновывается необходимость нового, сознательного этапа развития мира. Человек здесь — существо, находящееся в процессе роста, далеко не совершенное, но вместе с тем сознательно-творческое, призванное преобразить не только внешний мир, но и собственную природу. «Речь по существу идет о расширении прав сознательно духовных сил, об управлении духом материи, об одухотворении мира и человека... Космисты сумели соединить заботу о большом целом — Земле, биосфере, космосе с глубочайшими запросами высшей ценности — конкретного человека»'.
Важное место здесь занимают представления о непрерывности жизни. В. И. Вернадский писал: «Мы не должны забывать, что представление о вечности жизни... более отвечает научным фактам, чем представление об абиогенезе, которое им противоречит и основано на вере»2. И далее он продолжа-
' Русский космизм: Антология философской мысли. — М., 1993 -С. 4.
2 Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. — М., 1989. — С 108.
ет: «Идея вечности и безначальности жизни — помимо ее космических представлении — давно проникает в научное мировоззрение отдельных натуралистов... сейчас эта идея получает в науке особое значение, так как наступил момент истории мысли, когда она выдвигается вперед как важная и глубокая основа слагающегося нового научного мировоззрения будущего»'.
К аналогичным выводам приходил и К. Э. Циолковский;
резюмируя изложенное в статье «Космическая философия», он писал:
«А. По всей Вселенной распространена органическая жизнь.
Б. Наиболее важное развитие жизни принадлежит не Земле.
В. Разум и могущество передовых планет Вселенной заставляет утопать ее в совершенстве. Короче, органическая жизнь ее, за незаметными исключениями, зрела, а потому могущественна и прекрасна.
Г. Эта жизнь для каждого существа кажется непрерывной, так как небытие не ощущается»2.
Это же обстоятельство отмечал и А. Л. Чижевский:
«Мы привыкли придерживаться грубого и узкого антифилософского взгляда на жизнь, как на результат случайной игры только земных сил. Это, конечно, неверно. Жизнь же, как мы видим, в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное»3. И добавляет: «Наше научное мировоззрение еще очень далеко от истинного представления о значении для органического царства космических излучений, которые, кстати сказать, лишь частично изучены нами»4.
В. И. Вернадский считал, что познание человеком окружающего мира идет по трем взаимообогащающим направлениям: через науку, искусство и религию. Наступило время синтеза. Необходимо соединить в единое целое знания и опыт человечества, чтобы получить качественно новое расширенное представление о мире и законах его бытия.
' Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. — С. 113.
2 Циолковский К. Э. Космическая философия // Русский кос-мизм: Антология философской мысли. — М., 1993. — С. 281.
3 Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. — М., 1976. — С.
4 Там же.—С. 27.
Именно эта функция синтеза древних и современных знаний Востока и Запада была реализована в философии наших соотечественников Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов.
«Живая Этика» — философско-этическое и духовно-нравственное Учение, созданное ими в сотрудничестве с группой индийских философов, универсально и космично, в нем представлены все аспекты бытия в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Вселенная здесь рассматривается как энергосистема беспредельных размеров, а человек — как ее неотъемлемая часть. Он — обладатель космической энергии, а Космос — одухотворенная система, где дух — одна из главных сил Природы. Дух, согласно Учению, есть материя в ее высшей стадии развития. Качественные различия между духом и материей не отрицают их генетического единства и объясняются разнообразием форм проявления единой субстанциальной основы Вселенной: Духо-Материи. Существует семь основных планов, или видов, космической материи, лежащих в основе как человеческого существа, так и всего Космоса.
Первый план — физическое тело. Это плотноматериаль-ная оболочка человека, соответствующая физической, земной сфере пространства. Она выполняет функцию взаимодействия физического тела с внешней средой и реализации воли сознания.
Второй план — эфирное тело, «жизненное начало». Это более тонкоматериальная структура, являющаяся проводником жизненной силы. Она тоже относится к физическому комплексу человека.
Третий план — астральное тело. Это тонкоматериальный субстрат человеческой структуры, составляющий область эмоционально-чувственных проявлений человеческой психики.
Четвертый план — ментальное тело, так называемый рассудочный ум, соответствующий сфере, близкой интеллекту, но характеризующийся более конкретным, предметно-бытовым содержанием мышления.
Эти четыре плана считаются низшими в силу эволюционной ограниченности их природы и в конечном итоге подлежат уничтожению.
Бессмертное начало, самосознание и духовную сущность человека составляют три последующих плана, называемых в «Живой Этике» Индивидуальностью, высшим «Я» человеческого существа. Это абстрактный ум, высший интеллект являющийся ядром сознания (пятый план); высший духовный ум, интуиция — духовно-творческое начало, принадлежащее миру духовной мудрости, знаний и любви, соединенных в одно целое (шестой план); и, наконец, седьмой план — чистый дух, осуществляющий функцию универсального единства, «вечная жизненная сила, разлитая во всем Космосе»'.
Каждый план человека адекватен определенному плану космического пространства, между ними постоянно происходит энергоинформационный обмен. Поэтому любое проявление человека (мысль, слово, эмоция, поступок) оказывает воздействие на высшие планы Космоса. Эволюционная задача человека и человечества — преобразование низших планов природы человека путем проявления высших творческих возможностей, заложенных в потенциале его духовной сущности.
Такое понимание природы человека позволяет уйти от односторонности его развития и определяет три важнейших направления в воспитании: физическое, эмоционально-чувственное и интеллектуально-духовное. Это те ступени, которые подводят человека к постижению своего высшего «Я». Любовь, Красота и Знание — так определяет Е. И. Рерих те пути, которые ведут к этой цели.
Признавая стремление к совершенствованию целью и смыслом жизни, философы-космисты утверждают, что оно может идти лишь в одном направлении, в развитии человеком своих духовных сил, своего духовного начала, которое вечно и бессмертно.
Подумайте об этом
Вопрос, существует ли Бог, истина, реальность или как бы все это ни назвали, никогда не может быть решен с помощью книг, священнослужителей, философов или спасителей. Никто и ничто не может ответить на этот вопрос, кроме вас самих, и поэтому вы должны познать самих себя. Незрелость заключается только в полном незнании себя. Понимание себя — начало мудрости.
Д. Кришнамурти * * *
Спросят: как пройти жизнь? Отвечайте:
как по струне бездну — красиво, бережно и стремительно.
«Живая Этика»
http://www.genafond.spb.ru/forum/ind...?showtopic=205










 Действительно, почему наука со всеми ее недостатками и с очень неприятною в наши времена болезнью — позитивизмом, тем не менее, пользуется такой популярностью? Где источник успеха науки? Уж конечно, не там, где попадает она впросак. Успех в вышеназванном методе, который был в своем конкретном применении сформулирован философом лордом Бэконом. И до этого момента и после, все кто смотрит в мир глазами самого мира, по сути, есть деятели науки. Этот прямой взгляд — величайшее открытие философской мысли. Очевидно, сама наука успешно использует метод там, где задачи ее не выходят за рамки «физического мира» (мир, который можно наблюдать физическим глазом или через прибор). Такой подход присущ благородной науке. В очень большой степени глаза ученого — это глаза мира, которые по отношению к миру видят хорошо. И вот, результат безупречных изысканий.
Действительно, почему наука со всеми ее недостатками и с очень неприятною в наши времена болезнью — позитивизмом, тем не менее, пользуется такой популярностью? Где источник успеха науки? Уж конечно, не там, где попадает она впросак. Успех в вышеназванном методе, который был в своем конкретном применении сформулирован философом лордом Бэконом. И до этого момента и после, все кто смотрит в мир глазами самого мира, по сути, есть деятели науки. Этот прямой взгляд — величайшее открытие философской мысли. Очевидно, сама наука успешно использует метод там, где задачи ее не выходят за рамки «физического мира» (мир, который можно наблюдать физическим глазом или через прибор). Такой подход присущ благородной науке. В очень большой степени глаза ученого — это глаза мира, которые по отношению к миру видят хорошо. И вот, результат безупречных изысканий.
 Что говорят разные психотерапевты, если у них спросить "Как пройти на вокзал?"
Что говорят разные психотерапевты, если у них спросить "Как пройти на вокзал?"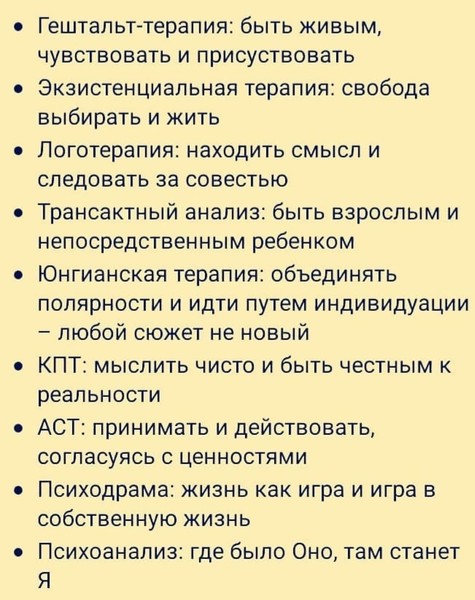
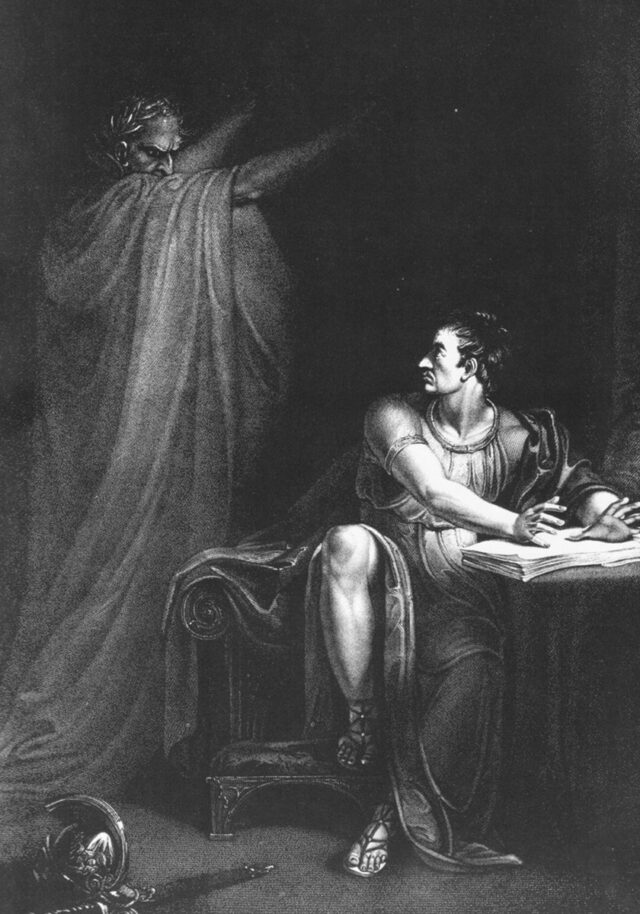






 Комбинированный вид
Комбинированный вид
